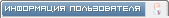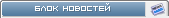Угрюмово это Угрюмово. Деревня вокруг станции Угрюмово. Не знаю как сейчас, раньше что-то 20-30 домов было. Ближе Ивановское около 1,5-2 км. До Павловского около 5.
Ну раз это просто Угрюмово, то вот о нём...
 "Командировка на разъезд Угрюмово"
"Командировка на разъезд Угрюмово" Мое знакомство с «Гудком» состоялось совершенно случайно. В шестидесятом году прошлого века в Хлыновском тупике, в самом его начале, мне на глаза попался газетный стенд с незнакомым для меня названием – «Гудок».
Остановился, почитал. Газета привлекла мое внимание прежде всего тем, что только по упомянутым на ее страницах названиям станций и городов я зримо представил – какая же большая наша страна. И что поработать в этом издании было бы мне, молодому журналисту, очень даже интересно.
К тому времени у меня уже имелся небольшой опыт работы в районной печати. Это и придало смелости постучаться в редакцию. С надеждой – может быть, сгожусь.
В тот солнечный январский день мне отчаянно повезло. В отделе писем оказалась вакансия инструктора по письмам трудящихся. Работа в основном техническая: читаешь письма и решаешь их дальнейшую судьбу. То ли направляешь в соответствующий отдел, то ли в министерский главк для принятия мер. Иногда следовало готовить письмо к публикации и еще реже – выезжать по нему в командировку.
А тем, которыми занимался отдел, было множество: торговля, быт, школа, детские сады и т.д.
В ту пору на сети была мода – изобретать новые формы торговли. И одной из таких новинок оказался общественный продавец. Это когда на каком-нибудь околотке, где отродясь не было магазина, трудовой коллектив выбирал человека, который на орсовском складе брал под отчет продукты, а потом продавал их на разъездах.
Вот в начале 1961 года я и выехал в свою первую командировку на Московскую дорогу, на маленький разъезд Угрюмово, что на границе Калужской и Смоленской областей.
Сколько их потом было в моей жизни, этих самых командировок, теперь уже и не упомнишь! Но я век буду благодарен профессии и «Гудку» за то, что из всех моих поездок одна – та, первая – растянулась для меня на всю жизнь. Потому что до сих пор память нет-нет да и возвращает меня туда, на разъезд Угрюмово, и я все еще не знаю, когда закончится – и закончится ли? – она для меня когда-нибудь вообще, первая моя журналистская командировка.
Одно только знаю: всякий раз по весне, когда отстоят черемухины холода, я живу ожиданием, что вот-вот, будто ни с того ни с сего, всколыхнется в душе какое-то необъяснимое чувство и позовет меня за собой в среднерусские леса. На маленький разъезд, на берега красавицы Вори, где соловьи в ту пору поют лучшие свои песни. И тогда уже ничто не в силах удержать тебя дома, в Москве. Ни четыре часа езды в битком набитом пригородном поезде на исходе рабочей недели. Ни пересадка, что предстоит глубокой ночью в Калуге. Ни еще четыре часа скрипучим местным поездом в сторону Вязьмы. Пока, наконец, не откроются тебе в запотелом окне Угрюмовские высоты, уже полный птичьего щебета лес, и за ним, по самые крыши в тумане, как в собственных снах, разъезд.
…Пишет из Угрюмова тот самый общественный продавец, путейский бригадир Николай Бороватов, – снова зовет к себе в гости. Коротко пишет: страничку, не больше, – будто все, какие есть на разъезде, новости решил приберечь к моему приезду. Но и за то спасибо, что обо мне вспомнил, что нашел время черкануть несколько строк.
Сколько я ни буду ездить в Угрюмово, какие перемены там ни произойдут, он, разъезд, останется для меня все таким же, каким увиделся в первый раз. Голубой от елей лес. На фоне леса двенадцать домов, все в ряд и все окнами, как люди лицом, – к железной дороге. Бригадиров дом с резным крыльцом и рябиной перед окном…
Как-то там живешь-поживаешь, добрая старушка Александра Андреевна? Все так же, небось, мелькает на разъезде твой выцветший, в клетку, платок, все так же выходишь встречать и провожать поезда? Знаю, почему не сидится тебе на старости лет дома, знаю. Есть семьи, где пуще всякой святыни чтима профессия прадедов, дедов и отцов, где слово «работа» значит почти то же, что «жизнь». Такой это род Пивоваровых, что все тут живут одной – о дороге – заботой, что даже старенькая мать ходит по земле и к каждому болту, к каждому стыку рельсов присматривается: все ли в порядке?
Пишет Николай, что все девять его километров перезимовали хорошо. Что поезда стали ходить быстрее: от Калуги до Угрюмова теперь всего каких-нибудь три часа пути. Что березы, которые мы с ним посадили в поле, над братской могилой, те березы теперь большие – только вот боль, людская боль меньше оттого не стала.
Есть что-то суровое в самом этом названии – Угрюмово. Что-то невысказанное и молчаливое, как тишина. Как тишина над старыми окопами и траншеями, над рядами проволочных заграждений, в которых запутались да так и остались по сей день стоять деревья. Как тишина после трехсот с лишним дней боев на Угрюмовских высотах, в поле перед Ворей. Как тишина над тысячами и тысячами могил, которыми обозначила себя линия фронта от Юхнова – через этот вот разъезд – до самого Гжатска.
Жизнь прожить – не поле перейти?
Назовите мне такое поле,
Что без боя пройдено в пути!
Куликово поле? Поле перед Ворей?
Не одна ль во всех полях земля?
Сколько с нами разделили горя
Полем боя ставшие поля!
Застыл, стоит сейчас на виду у всех высот, в поле, на пьедестале, бронзовый солдат. Стоит в государственной печали над могилой друзей, заслонивших собой в этом поле всю страну и ее маленький разъезд.
Вот почему каждый год по весне, в канун праздника Победы, собираются угрюмовцы, стар и млад, идут сюда поклониться памяти павших, несут с собой цветы самые разные. Как приведут могилу в порядок, снимет путейский бригадир Николай Бороватов свой картуз и скажет самые лучшие, какие только знает, слова о незнакомых ему бойцах. Что собственной жизнью заплатили за то, чтобы всегда стоял на земле дедовский, отцовский и его разъезд, чтобы днем и ночью громыхали составы на фамильных километрах, чтобы рябина рдела перед окном дома…
От таких слов застынут старики, притихнут на минуту ребятишки, и старые солдатки будут думать, что и на могилах их мужей и сыновей, павших в других полях – под Ельней и Клином, под Белгородом и Старой Руссой, – сейчас незнакомые русские женщины, наверное, сажают точно такие же, как здесь, цветы.
Здесь давно поселилась тишина. Но до сих пор еще нет-нет да и охнет земля от взрыва проржавевшей мины. До сих пор еще сидят в телах берез осколки снарядов и в непогоду под ветром скрипит и стонет от старых ран лес. С весны, все лето и до глубокой осени горят в поле, не затухают яркие до боли в глазах цветы и тихо стоит, склоняясь над солдатской могилой, березовая грусть благодарной России.
Каждый год я спешу в Угрюмово, и сам не могу себе объяснить – почему. Ладно бы там что-то особенное было у меня связано с той первой моей командировкой. Так нет же, командировка как командировка, только разве что первая. Ладно бы я привез из той командировки первый свой очерк. Так тоже нет – он был написан потом и вовсе не об Угрюмове. Об Угрюмове я до сих пор толком ничего и не написал и не знаю, напишу ли когда что-нибудь.
Одно только знаю: всякий раз по весне, в начале мая, схлынут черемухины холода – и я снова живу ожиданием, что вот-вот всколыхнется в душе неотступное, как зов, чувство и поведет меня за собой в среднерусские леса. На знакомый разъезд, на берега красавицы Вори, где в ту пору соловьи поют лучшие свои песни.
Анатолий ВОРОБЬЕВ,
ответственный секретарь «Гудка» 70 – 80-х годов
прошлого века
© «Гудок», 27.06.2007
И стихи о нём же...
Деревенский очеркУгрюмово затеряно в лесах
Калужской области - глухая деревенька.
Здесь раньше был колхоз-миллионер,
селяне жили, не имея храма,
но как за пазухою у Христа.
Хоть приходилось вкалывать на совесть,
чтобы держава делала ракеты
и процветал классический балет.
Всё изменилось после Перестройки.
Колхоз, само собою, развалился.
Дома свои две трети деревенских
распродали под дачи горожанам,
а сами подались на все четыре.
Вот на такой-то даче мы и жили,
отстроенной весьма евростандартно.
Белели спутниковые антенны,
крыльцо резное бликовало лаком,
жесть кровельная солнцем полыхала,
горел камин (французская модель).
А на участке царствовали розы
и множество диковинных растений,
напоминающих скорей о Юге,
чем о белесой Средней полосе.
А рядом - захудалые домишки
из серых брёвен за забором серым,
коровы, натуральное хозяйство,
безденежье, безудержное пьянство.
Вот от чего спивается деревня:
от безработицы и безнадёги.
Для молодых по выходным - танцульки,
где местные приезжих лупят лихо.
Визжат девицы, музыка грохочет,
и в небе у луны съезжает крыша
лиловой тучей. Праздник состоялся.
Мы, в общем-то, бездельничали здесь.
Полунагие, нежились на солнце.
Ходили по тропинкам пыльным местным
к речушке неширокой, неглубокой,
но чистой. Обнаружили, что церковь
возведена в соседней деревушке,
пусть нищая, но в месте сём убогом
теперь и Богу отыскалось место.
Теперь, быть может, край сей возродится.
Хотя надежд на это очень мало.
Однако, говорят друг другу “здрасьте”
здесь все, и нам, заезжим незнакомцам,
а это, думаю, хороший признак.
Об этом и судьбе России в целом
болтали мы под вечер на крылечке,
посасывая пиво, сигаретой
дымя. И такса Кеша слушал наши
реченья, морду положив на лапы.
Недолго деревенской благодатью
мы наслаждались, города исчадья, -
сбежали от неё через неделю.
Я помню, самолёт шёл на сниженье
над долгожданным (с юности) Парижем,
внизу земля виднелась, на квадраты
расчерченная строго, аккуратно.
А тут - раздолье, воля, перспектива!
... Неслась машина. Мимо нас летела
ничейная родимая земля.
 В среднем течении реки Угра
В среднем течении реки Угра
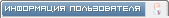
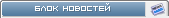








 В среднем течении реки Угра
В среднем течении реки Угра